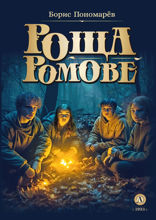Хоррор умеет ждать: о русскоязычном городском хоррор-фэнтези

Существуют цельные литературные жанры, собранные из других. И обычно в случае таких сочетаний не до конца понятно, а о чём же именно пойдёт речь и что ожидать от книги. Жанр городское хоррор-фэнтези как раз из таких. Мы точно знаем, что ждать от хоррора и что ждать от фэнтези, — но каким будет сочетание двух этих форматов, каждый из которых имеет свои сюжеты и приёмы? Рассказывает Борис Пономарёв, автор книги «Роща Ромове» из серии «Метавселенные фэнтези».
Было бы слишком просто определить жанр городского фэнтези как «фэнтези, происходящее в городе» — точно так же, как описать научную фантастику через словосочетание «фантастика про науку». Тем не менее и это определение позволяет подчеркнуть ключевые моменты. Фэнтези — значит будет что-то сверхъестественное. Городское — следовательно, действие происходит в городе, в более или менее привычном для читателя мире. Вряд ли главный герой городского фэнтези будет путешествовать через Пустошь Печали к Водопадам Вечности, чтобы вытащить из их ледяных вод Меч Мужества. Скорее всего, он будет (не)обычным городским жителем, который обнаружит, что в лифте его девятиэтажного дома зачем-то есть кнопка десятого этажа, — и с этого невинного события начнётся прекрасная трёхтомная сага…
…или небольшой, но очень страшный рассказ о том, как человек зашёл в лифт и больше не вышел. Городское фэнтези и хоррор — одни из самых «дружелюбных» друг к другу жанров, прекрасно взаимодополняющие друг друга, что, к примеру, вряд ли получится у детектива и любовного романа. Литература ужасов сама, по сути, базируется на допущении сверхъестественного, а городской хронотоп идеально подходит для воплощения скрытых, потаённых страхов жителя мегаполиса.
Конечно, не всякое городское фэнтези — это хоррор, и не каждый роман ужасов предоставляет своим героям жизнь (и ужасную гибель) в окружении небоскрёбов и автострад. Но дружба между этими двумя жанрами существует примерно столько же, сколько существуют эти жанры. В частности, одни из первых русскоязычных произведений ужасов — «Чёрная курица» и «Лафертовская маковница» Антония Погорельского — являются прекрасными примерами подобного сочетания. То же самое можно сказать про «Пиковую даму» и «Медного всадника» Александра Пушкина, «Портрет» и «Шинель» Николая Гоголя. К сожалению, двадцатый век не благоприятствовал ни русскому хоррору, ни русскому городскому фэнтези: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова официально был опубликован только в конце восьмидесятых годов. Но даже в этих условиях удавалось появляться отдельным выдающимся произведениям — например «За миллиард лет до конца света» Аркадия и Бориса Стругацких. Парадокс, но формально научно-фантастическая повесть несёт в себе вполне заметные вайбы, выражаясь современной лексикой, мистического городского хоррора, отражающие вполне конкретный ужас советского интеллигента перед тайной полицией, — незадолго до написания Борис Стругацкий был допрошен в КГБ.
Отмена цензурных ограничений после распада СССР убрала барьеры перед русскоязычными писателями хоррора и фэнтези, но перед авторами возникли новые проблемы. Не имелось сформированной школы соответствующих направлений — только редкие исключения, недостаточные для литературной опоры. Зато были конкуренты — переводные зарубежные писатели, творящие в совершенно других условиях и базирующиеся на развитых столетиями традициях. Тем не менее, в этих условиях удавалось появляться новым книгам, год за годом постепенно сформировавшим школу русскоязычного хоррора.
Очень часто этот жанр избирал местом своего действия полузаброшенные деревни и глухие леса (как во второй части «Малой Глуши» Марии Галиной); но появлялся и хоррор городской (как в «Медведках» той же Марии Галиной). Можно только гадать о причинах столь значительной популярности сельского хоррора в весьма урбанизированной стране, где большая часть культурной (и не только) жизни сосредоточена в очень небольшом количестве городов.
Возможно, ответ кроется в том, что деревня в хорроре — больше чем просто деревня. Деревенскому ужасу под силу самому прийти даже к абсолютно городскому жителю, чтобы выманить его к себе, на свою территорию, как это и произошло в «Убыре» Шамиля Идиатуллина. Одним из самых примечательных образцов деревенской — в данном случае дачной — литературы ужасов являются «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой; более поздние сборники «Наш двор» и «Магазин работает до наступления тьмы» являются столь же примечательными образцами городского хоррора. То же самое можно сказать и о романе «Метро 2033», который начинается как классическая история леденящих ужасов в локациях постапокалиптического московского метрополитена. Такая эстетика начинает меняться только с середины книги, но, возможно, именно она стала причиной бума популярности всей книжной серии, в которой участвовали буквально десятки авторов.
Хоррор — жанр психологический, и, как и детектив, не прощающий автору ошибок.
Можно написать вполне удовлетворительный боевик или приключенческий роман, но удовлетворительный хоррор, скорее всего, будет неудовлетворительным. Возможно, это связано с тем, что литература ужасов — это способ говорить о потаённых, подспудных страхах общества, к которому принадлежит читатель, и здесь нет промежуточных состояний: автор или затрагивает этот страх, или не касается его вообще. Хронотоп города позволяет поместить это страшное непосредственно в среду обитания: городской фэнтези-хоррор тесно соседствует с городскими легендами. Так, Виктор Пелевин в своём эссе «Подземное небо» рассказывает об одной из пугающих легенд московского метрополитена: что одиноких пассажиров похищают и заставляют всю жизнь обслуживать могучие подземные машины и механизмы. Эту историю можно интерпретировать как страх советского человека перед коммунистическим государством в его тоталитарном варианте сталинской эпохи, но, безусловно, существуют и другие истолкования.
Близким к городскому хоррору, фэнтези и легендам можно назвать такой полуфольклорный жанр современности, как страшные истории из интернета. В русскоязычном сегменте этот фольклорный жанр XXI века полнее всего воплотился в «крипипастах с двача» — коротких страшных историях, опубликованных на анонимных интернет-форумах («бордах», «двачах»). Как правило, героем таких историй является обычный среднестатистический пользователь интернета, случайно столкнувшийся с чем-то нехорошим. В готической литературе XIX века герой находит шкатулку с костями или манускрипт на древнем языке; в крипипастах нулевых годов он случайно скачивает из интернета зловещий видеофайл… И его остывшее тело, пробившее головой компьютерный монитор, обнаруживают только через несколько дней. Этот самобытный жанр очень хорошо улавливал нерв своего времени (приблизительно 2006–2013 годы), и можно только сожалеть, что его наработки до сих пор почти не использованы в «большой» русскоязычной хоррор-литературе.
Однако этот культурный пласт определённо ждёт своего часа. Хоррор работает с подспудными страхами не индивидуума, но целого общества, и они не исчезают сами по себе. Верно и обратное: литература ужасов может обладать психотерапевтическим эффектом — но не обязательно. Возможно, будущий российский Говард Лавкрафт или Монтегю Родс Джеймс, сидевший на двачах в 2010 году, ещё только обдумывает свой дебютный роман, который начинается с того, что житель девятиэтажки обнаруживает в лифте кнопку десятого этажа.
Хоррор умеет ждать.

Книги из статьи
Другие статьи
Пишем о книгах и не только