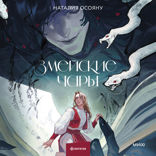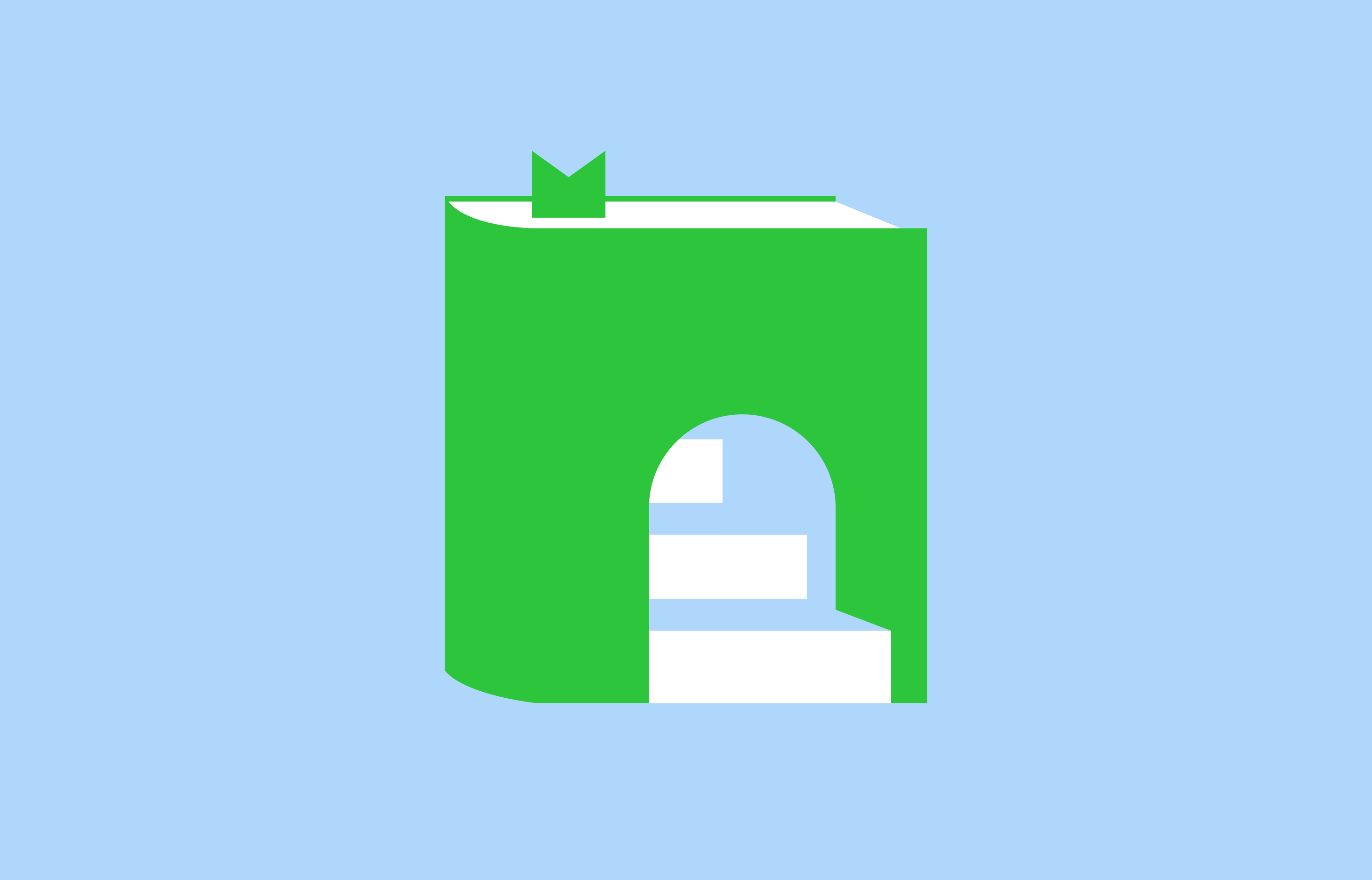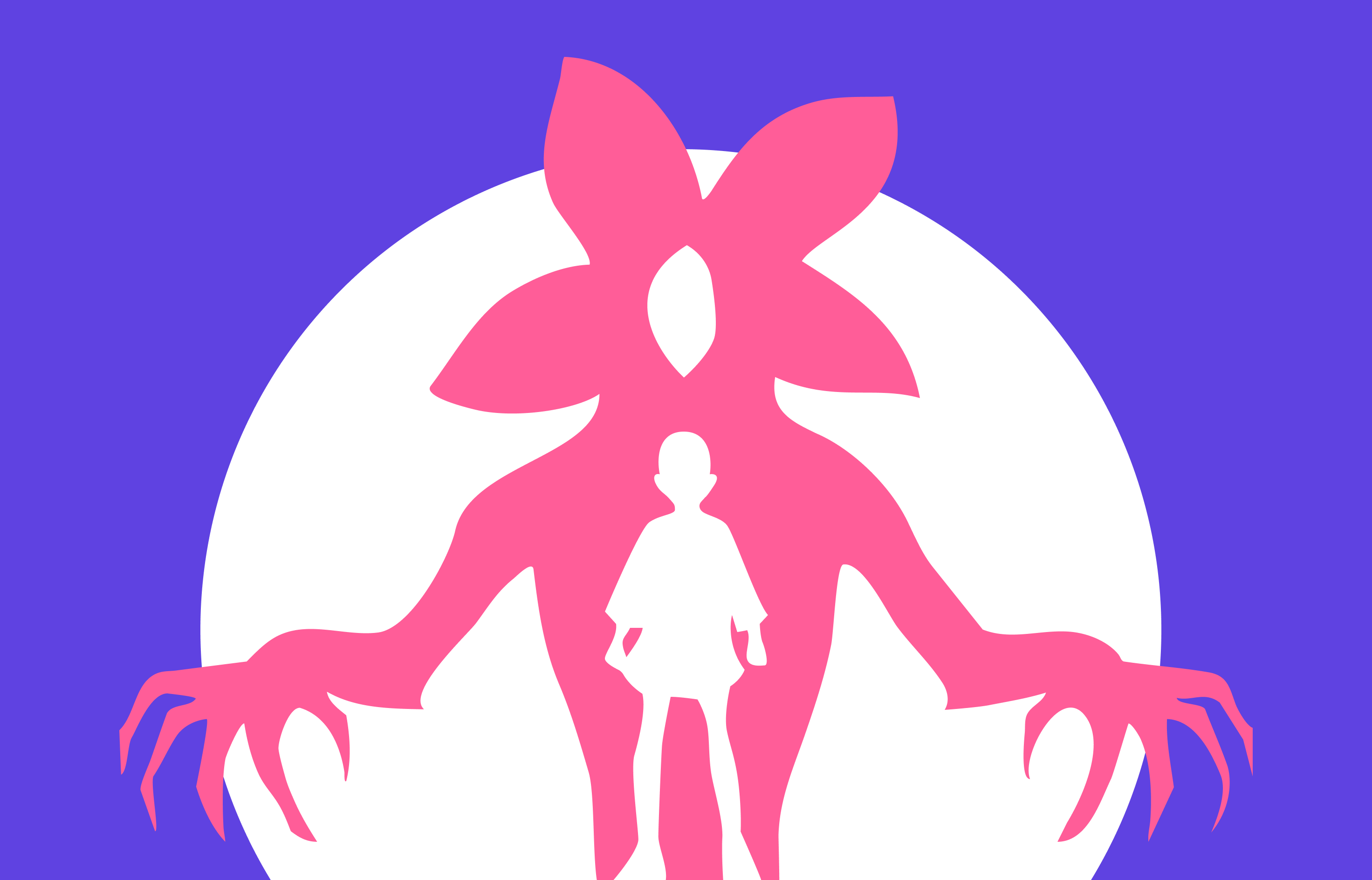Интервью с Наталией Осояну — автором фэнтези «Змейские чары»

Кира Адерка, дочь зажиточного торговца Лесной страны, довольна своей тихой, размеренной жизнью. Но однажды её настигает проклятие — и с тех пор каждую ночь она проваливается в Подземье, царство змей и их пугающих чар. Лишившись сна и покоя, Кира слабеет и понимает, что её дни сочтены.
Этой осенью читаем «Змейские чары» Наталии Осояну — мрачное фэнтези по мотивам румынских мифов и сказок. В интервью с автором поговорили про новинку: обсудили замысел и жанр, персонажей и работу над текстом.
— Наталия, расскажите, как родилась идея «Змейских чар»?
— Первые проблески этой книги возникли давно. Я часто думала о том, что такую богатую и практически неизвестную за пределами Румынии и Молдовы фактуру грех не использовать для какого-нибудь фэнтези. Отчасти так и поступила, когда написала повесть «Змей», где фигурируют знакомые читателям «Змейских чар» и «Румынских мифов» фольклорные типажи, хотя сама повесть — не фэнтези, а, скорее, магический реализм на подлинном историческом материале (уточню на всякий случай, что атмосфера и тональность там намного мрачнее, чем в «Змейских чарах», а финал целиком и полностью безнадёжный). Еще одним текстом, выросшим на той же почве, стал святочный рассказ «Билет».
Во время работы над «Румынскими мифами» я собрала много материала, который мало что добавил бы к рассказанному в книге, но сам по себе был мне очень интересен. И постепенно из этого материала стали рождаться истории: они появлялись одна за другой, вырастали одна из другой, сплетались друг с другом… Как это всегда бывает с любой книгой, любая деталь могла мгновенно встроиться в замысел, и теперь уже сложно восстановить последовательность их появления. В итоге уже во время работы над «Балканскими мифами» всё тот же сопутствующий материал, но с сербским, хорватским и прочим колоритом, заполнил кое-какие пустоты и позволил мне отобразить в романе мир, который не замыкается в рамках одной культуры, а тянется в соседние края, каждый со своими особенностями.
С той частью, что касается средневековой европейской — не румынской! — мифологии и легенд, вышла похожая история: я давно ею увлекалась, хоть и не слишком систематически, и думала, что многое кажется драгоценнейшим кладом, который особо никто и не прятал, только почему-то авторы фэнтези не спешат им воспользоваться.
Но это если говорить про антураж и про идею в общих чертах. Нечто, объединяющее все фрагменты воедино, пришло вместе с фигурой Дьюлы и двумя строчками первого стихотворения: «…и если не вышло героем прослыть, пора обернуться чудовищем». Это интересное ощущение, как будто что-то щёлкает внутри — и все части большой головоломки, такого пазла на 10 000 фрагментов, становятся на свои места. Дальнейшее становится делом техники, с этого момента уже сам замысел «подтягивает» нужные детали, и надо лишь успевать их записывать.
— Как вы определили бы жанр книги — фэнтези, фолк-фэнтези, шкатулочный роман, как пишет критик Денис Лукьянов, или что-то еще — и почему выбрали именно его?
— Я не очень-то люблю жанровую классификацию и стараюсь по возможности её обходить стороной, даже если речь идет о чём-то прочитанном, а не написанном. Мне нравится то, что пребывает между жанрами, в этакой лиминальной зоне. Опасно, зато интересно. Термин «шкатулочный роман», наверное, самый подходящий, потому что нейтральный и абсолютно соответствует истине: шкатулка в шкатулке в шкатулке и так далее; композиционная сторона «Змейских чар» приблизительно такая и есть. Правда, местами вместо шкатулок тессеракты… Что касается того, почему я выбрала именно эту форму — у меня стойкое ощущение, что форма выбрала сама себя, а мне оставалось лишь подчиниться её решению.
— О чем эта книга для вас?
— О чудовищах. Тема чудовищ и чудовищности на страницах «Змейских чар» поднимается многократно. С того самого момента, о котором я уже упоминала — когда что-то щёлкнуло, и фрагменты замысла соединились, — вся история для меня была о том, как (и почему) рождаются, живут и умирают чудовища, какой след они оставляют в мире, как искажают мир самим фактом своего существования. Какова, в конце концов, их роль.
— Расскажите немного о героях и о пространстве книги для тех, кто её ещё не открыл. С кем и с чем предстоит встретиться читателю?
— Читателю предстоит встретиться с одной рамочной историей и множеством вставных, при этом в рамочной два главных героя, чьи сюжетные линии развиваются в разных временных пластах и с разной скоростью, так что до определённого момента непонятно, как именно они пересекаются. Вставные истории связаны с главной через некоторых персонажей, локации, мотивы и образы (включая один, особенно важный для понимания финала).
Итак, на событийном уровне «Змейские чары» — повествование о том, как дочь купца Кира Адерка оказалась под воздействием проклятия, из-за которого каждую ночь она попадает в подземный мир, где три брата-змея ее всячески мучают. На тринадцатый вечер к Кире приходит байронический чернокнижник Дьюла Мольнар и объясняет, что он один способен избавить её от этой напасти, если она хочет. Дальше начинается странствие героев, путешествие из спальни Киры в подземный мир, а далее — за пределы Мировой Книги, и одновременно — раскрытие «шкатулок», развертывание дополнительных планов романного бытия, которые вырастают над основным, как бумажные конструкции в трёхмерной книге. Вот ты её открыл, и над страницами вырос замок, а в башне царевна, и у крепостной стены — огнедышащий дракон-балаур; все они, как и текст, части истории, просто состоят не из букв. В средневековых книгах, как вы помните, было много рисунков-дополнений на полях, и в «Чарах», фигурально выражаясь, то же самое.
Если же охарактеризовать пространство книги в двух словах, то географически оно примерно соответствует Восточной Европе и Балканам с очень краткими вылазками в сторону Ближнего Востока и Скандинавии. Этот мир был создан двумя божествами — условно хорошим и условно нехорошим, — а началу описываемых событий предшествует не только человеческая история, но и хроника такого… скажем, космического характера, масштабного, включающая, например, восстание части ангелоподобных существ, их низвержение и превращение в демонов. Вот это всё опирается, с одной стороны, на румынскую и немного балканскую мифологии (надо отметить, они и сами вобрали в себя фрагменты совсем других мифологий), с другой — на христианские апокрифы.
— Расскажите про чёрные квадратики в тексте и звуковые эффекты в аудиоверсии. Какую роль они играют? Кстати, как вам озвучка книги?
— Ну почему, почему все говорят про квадраты, они же на самом деле прямоугольники! Если без шуток, некоторые читатели, которым этот типографический изыск не понравился, сами ответили на вопрос «зачем»: они писали, что им было странно и неприятно, но… в том-то и дело, что это не просто тьма как отсутствие света, а тьма внешняя — то место, где много плача и скрежета зубовного. Преисподняя, Тартар, первозданный океан, из которого родился населённый людьми мир и который до сих пор — в рамках мифов — его окружает. Для такой тьмы, во-первых, подходящих слов нет ни в одном языке; во-вторых, от неё и должно быть странно и неприятно. Она просто обязана сбивать с толку, в этом её суть.
Что касается выворотки (белых слов на чёрном фоне), то в тексте есть сюжетное обоснование: это фрагменты истории, связанные со змеями; Дьюла залил их чернилами (отсюда черный фон), но всё равно видно, потому что уничтожить уже свершившееся зло без следа нельзя.
Озвучку я считаю идеальной, она для меня всё равно что экранизация.
— В основе книги — румынские мифы. Расскажите, чем они вас привлекают (кажется, они о-о-очень мрачные!)?
— Мифы и неадаптированный фольклор часто — да почти всегда — мрачные и кровавые, иной раз до такой степени, что на их фоне блекнет любой современный хоррор. Я, фактически, шла к мифам странной дорогой, шиворот-навыворот: от фэнтези к сказкам, от сказок к легендам и преданиям, причём не по прямой, а причудливыми зигзагами, и вот мы здесь.
Мифы — не только румынские, конечно — привлекают, в основном, своей инаковостью. Тем фактом, что всё это, выражаясь современным языком, фэнтези, все эти боги, герои, монстры и удивительные события — не выдумка в обиходном понимании, не фантазия, не полёт воображения, а способ взглянуть на мир иначе. Изучение мифов позволяет хоть немного понять логику, которая предшествовала зарождению рационального познания. Мне это кажется увлекательным.
— Кто ваш любимый герой из румынских-балканских-славянских мифов? Почему?
— Не герой как таковой, а типаж — соломонар, грабанцияш дияк, «чёрный школяр»; тот, кто в «Змейских чарах» назван граманциашем (это слово я выдумала, поскольку Дьюла и его «однокурсники» не совсем соответствуют прообразу — в частности, насколько я могу судить по источникам, девушек в Школу Балаура не брали). Легенда и/или миф о школе соломонаров меня буквально завораживает и, быть может, я к ней ещё вернусь в каком-нибудь новом тексте.
Кстати, когда читатели подыскивают что-то, с чем им хочется сравнить «Змейские чары», обязательно говорят про «Гарри Поттера» и довольно часто про роман Марины и Сергея Дяченко «Vita Nostra». А вот сказочную повесть Отфрида Пройслера «Крабат, ученик колдуна» все забыли, хотя она как минимум по атмосфере куда ближе (потому что основана на том же комплексе европейских легенд про школу чёрной магии).
— В книге много отсылок к мифологии. Нужно ли читателю быть подготовленным или можно обойтись без знания балауров и стригоев?
— Мне кажется, это не обязательно. Некоторые пояснения есть в послесловии, но и они предназначены, скорее, для тех, кто захочет узнать что-то ещё, а для понимания книги достаточно самой книги, если читать её внимательно. Однако надо учесть, что я предвзята хотя бы в силу того, что знаю про все эти отсылки, и моё мнение в этом вопросе вряд ли что-то значит.
— «Змейские чары» называют книгой мрачной, тревожной, неудобной для читателя и критика (Галина Юзефович), потрясающей, поэтичной, темной, тягучей, странной, красивой, постмодернистской… Какое из определений нравится вам больше других и точнее отражает текст?
— На этапе существования рукописи я бы сказала, что она «мрачная», а теперь по совокупности отзывов очевидно, что «неудобная».
— Каким читателям, на ваш взгляд, понравятся «Змейские чары»?
— Не могу ответить на этот вопрос. Разброс читательских мнений сам по себе крайне велик, они простираются в спектре от «фу, мерзость» до «боже, это круто», и даже в тех случаях, когда я имею хоть смутное представление о том или ином читателе, выходящее за пределы его отзывов, мне нередко только и остаётся, что в растерянности развести руками. Книга понравилась очень разным людям (вероятно, и не понравилась тоже очень разным людям). Может быть, всё дело не в поле, возрасте или профессии читателей, а в жизненном опыте, но каком именно — боюсь, никто не определит.
— В книге десятки вставных новелл, историй в историях, поначалу в них легко потеряться и чтение точно не назовёшь лёгким. Если бы мы попросили вас дать ключ к тексту, что вы бы ответили?
— «Змейские чары» в целом требуют неторопливого прочтения и внимательности — причём я бы не сказала, что чрезмерной, всё-таки роман маленький, это не «Тысяча и одна ночь» и даже не «Рукопись, найденная в Сарагосе» Потоцкого.
Что касается финала… у меня, конечно, есть мастер-ключ от всех дверей. Но вместе с тем я придерживаюсь мнения, что тексты живут своей жизнью, и, если кто-то интерпретирует суть рассказанного не так, как я задумала, он тоже прав. Ведь когда мы читаем одну и ту же книгу, каждый из нас читает свою собственную историю, складывает фрагменты на свой лад, видит тот смысл, который ему близок. И на этом этапе вламываться со знакомым ключом в чужой дом означает устроить почти то же самое, что случилось на 3-ей улице Строителей в известнейшем кино.
Поэтому просто читайте, позвольте истории — внутри истории внутри истории внутри… — себя увлечь. И тогда в нужный момент разломанные пополам фразы станут целыми, мотивация Дракайны прояснится (вообще-то она говорит о своей цели открытым текстом), а образ, который назойливо повторяется в романе снова и снова, обретет смысл. И всё сложится.
— В книге есть образ человека, жизни, мира как книги. Очень поэтичный. А если бы вы были книгой, то какой?
— Манускриптом Войнича.
— Как шла работа над книгой, сколько времени, что было в ней самым сложным?
— Работа растянулась на два года — да, два года при достаточно небольшом объёме, — и самым сложным было находить для неё время и силы. В этом нет ничего специфического для «Змейских чар», у меня с каждой книгой происходит одно и то же.
— А что, наоборот, приносило удовольствие и давалось легко?
— Бывают отдельные сцены, фрагменты, которые пишутся на одном дыхании, в потоке, и это не просто приятно и легко, это по-настоящему волшебно — по крайней мере, для меня, потому что читатель может и не заметить ничего особенного. Ну, например, так была написана вставная новелла «Как стрела в полете», между её первым черновиком и финальным вариантом почти нет разницы, потому что все сразу получилось таким, каким должно быть (на мой взгляд). Интересно было писать ту часть, где Кира и Дьюла идут к краю страницы — там, где плещется Субботняя Вода и появляется Пристис, та самая «рыба-смайлик», глотающая слова и воспоминания ~~~<º)))><~~~. «Пещерная» атмосфера заимствована из реальной жизни, и мост в реальной пещере тоже был, пусть и совершенно обыкновенный, а не эсхатологический, как в «Змейских чарах» (я просто соединила его с мостами Сират и Чинват, которые упоминаются в «Балканских мифах» и в «Мифах воды»).
— Вы пишете и нон-фикшн, и художественные книги. Что вам ближе? И помогает ли опыт создания нонфика в работе над прозой?
— Я люблю копаться в литературе, вчитываться в сложные и скучные тексты, искать в них что-нибудь особенное и собирать из разрозненных фрагментов как минимум упорядоченные последовательности, как максимум — какие-нибудь сложные конструкции. Сейчас у меня в работе четвёртый нон-фикшн для МИФа, который по концепции отличается от трёх уже вышедших книг. С работой над художественной прозой дело обстоит сложнее… Если позволите метафору, замысел нонфика — словно сказочный волшебный помощник, добрый дух, он всеми силами пытается поддержать автора. А вот замысел художественной книги похож на вихрь, который налетает внезапно, переворачивает всё вверх тормашками, и ты сидишь потом посреди хаоса, чешешь репу и думаешь: «Ну ладно, и что же теперь с этим всем делать?..»
— Если не ошибаюсь, по образованию вы переводчик. Когда вам захотелось стать писателем? И в какой момент вы поняли, что состоялись в этом качестве. Что легче — переводить тексты или писать их?
— По образованию я юрист, по роду изначальной профессиональной деятельности — университетский преподаватель (что, как известно, заметно отличается от юриста-практика), который то и дело удирал от скучной жизни в Нарнию литературы во всем её многообразии и в конце концов забыл дорогу обратно. Опыт написания и защиты кандидатской диссертации помог мне сделаться автором нон-фикшна. Сложно сказать, что легче; у каждого рода деятельности свои плюшки и ловушки.
«И в какой момент вы поняли, что состоялись в этом качестве» — не сочтите за кокетство, но мы с моим синдромом самозванца до сих пор этого не поняли.
— Как строится рабочий день писательницы Наталии Осояну? Вы встаёте и беретесь за текст без перерывов на обед или у вас свободный график?
— Да, примерно так: свободный график без перерывов на обед, выходных, больничных и отпусков. Шучу. (Или нет.)
— Как к вам приходят идеи для книг?
— Как правило, абсолютно непредсказуемым образом и в самый неподходящий момент. Идей для книг у меня куда больше, чем возможностей для их написания (и, кажется, это знакомая многим литераторам проблема).
— Какие книги и авторы нравятся вам как читателю?
— Не люблю выбирать, поэтому, если честно, в таких случаях называю не столько любимые книги и авторов, сколько то, что меня привлекает в данный момент. Я по привычке читаю очень разное, от самой простой беллетристики до чего-то довольно заумного вроде «Дома листьев» Марка Данилевского или «Иерусалима» Алана Мура. Такой разброс вкусов, наверное, можно назвать их отсутствием.
В последнее время так сложилось, что я почти не читаю художественную литературу, но на случай, если интерес вернётся, держу наготове стопку старых и новых книг: «Голем» и «Ангел западного окна» Густава Майринка, «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино, «Орландо» Вирджинии Вулф — хочу перечитать их спустя годы. А из новых книг планирую познакомиться с романами Дмитрия Колодана «Пересмешник на рассвете» и Юлии Зонис «Атлант и демиург».
— Получилась ли обложка такой, какой вы её себе представляли? Отражает ли она книгу?
— Мне нравится, какой получилась обложка. Её называют чересчур романтичной, но ведь у героини на лице аршинными буквами написано, что её вот-вот прихлопнут, раздавят между страницами, как муху — какая уж тут романтика? На мой взгляд, обложка отражает всё, что должна отражать; просто каждый интерпретирует увиденное по-своему. И это нормально.
— Если бы вам предложили что-то сказать читателям «Змейских чар», что бы это было?
— Жизнь страшнее любой книги, так что не надо бояться.

Книги из статьи
Другие статьи
Пишем о книгах и не только