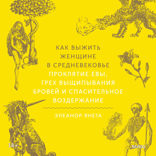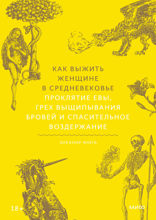Запрет на моду и обвинения в похоти. Какой была жизнь женщин в Средневековье?

Распущенные и порочные. Недалёкие умом и бездеятельные. Обязанные рожать, вести дом и утешать мужчину в болезни. Всё это — о женщинах Средневековья. Но какими они были на самом деле? Историк-медиевист Элеанор Янега приоткрывает завесу тайны в книге «Как выжить женщине в Средневековье». И создаёт захватывающее исследование представлений о красоте, сексуальности и поведении. В качестве ознакомления предлагаем несколько занимательных отрывков из новинки.
Дисклеймер: внимание, материал написан для лиц, достигших 18 лет, и не рекомендуется лицам младше этого возраста.
Идеал красоты: монобровь, грудь и стан
Сохранилось множество текстов, в которых описано, какой должна быть женщина — начиная с шеи и заканчивая ступнями.
Создавая свой идеал красоты, средневековые мыслители обращались за подсказками к античным авторам и их героиням. Так, Дарет Фригийский в «Истории о разрушении Трои» воспевал Поликсену и Брисеиду: у них была светлая кожа и белые волосы. Обеим нравилось подводить брови, чтобы они сходились на переносице в сплошную линию. Латинский элегический поэт VI века Максимиан записал гораздо более подробное описание прекрасной женщины: золотистые волосы, молочная шея, смоляные брови, пухлые губы.
Французский учёный, преподаватель и автор XII века Матвей Вандомский даёт полноценный портрет Елены Троянской: её лицо и глаза источают сиянье, как «светозарная звезда», её кожа бела, а щёки красны, что похоже на «игру румянца с белизной снегов». Матвей любезно описывает нос Елены как не слишком большой и не слишком маленький. Губы, и на сей раз названные пухлыми, ещё и медовы, а её дыхание благоухает ароматом роз, «в томленье страстном по поцелуям». Однако в отличие от предыдущих описаний, где есть указание на монобровь, Матвей делает особый акцент на «белом и чистом» промежутке между бровями Елены.
Матвей Вандомский говорил и о красоте женской шеи, подчёркивая её белоснежность. А поэт Гальфред Винсальвский черпал аналогии в архитектуре, и потому женская шея виделась ему как «столп драгоценнейший млечного цвета».
А что насчёт груди? Средневековые мужчины единодушно восхищались небольшими женскими грудями, также обязательно белоснежными. Вандомский превозносил «изящные» полушария Елены Троянской, что устроились «скромно у неё на груди». Гильом де Машо, добавив больше прилагательных в описание груди молодой женщины, тем не менее не преминул подчеркнуть, что хотя они «белы, тверды, сидят высоко, заострены и округлы», они также «достаточно малы». Этому идеалу было проще соответствовать женщинам из богатых слоёв общества, которые могли отказаться от грудного вскармливания.
В Средневековье предпочитали талии потоньше, хотя авторы того времени не балуют нас подробными описаниями этой части тела. Матвей Вандомский уверял своих читателей, что Елена Троянская «была узка в талии». А позже Гильом де Машо обрисовывал фигуру красавицы в следующих выражениях: «пропорционально сложена… пышна телом, высока, осанкою пряма и усладительна для взора, стан гибкий, грациозна и в талии стройна». Если пожелания видеть красавицу одновременно и «полноватой телом», и «стройной в талии» кажутся нам немного противоречащими друг другу, то противоречие это легко разрешится, когда взгляды автора и читателя продолжат обзор воображаемой женской фигуры. Миновав талию, они опустятся, согласно Матвею, на «соблазнительный животик». Современному читателю недолго впасть в заблуждение, что речь идёт о плоском животе под стать тонкой талии. Ничуть не бывало! Матвей и другие авторы говорят об удовольствии созерцать округлый, несколько «выдающийся вперёд» живот.
Интимная жизнь: удовольствие под запретом
Средневековые богословы считали секс как таковой греховным: само его существование неразрывно связывалось с доктриной первородного греха. Но в то же время Бог повелел человеку продолжать свой род. Поэтому интимная жизнь в браке считалась приемлемой.
Впрочем, здесь было много удивительных ограничений. Получать слишком много удовольствия от секса считалось неправильным, поскольку супруги рисковали отвлечься от священной миссии по зачатию детей и пасть жертвой похоти. Все позы, кроме миссионерской, причислялись к греховным. В многократных настояниях Иеронима Стридонского звучит, что «нет ничего гнуснее — любить жену как прелюбодейку». Средневековые богословы провозглашали неприемлемым супружеское соитие в особо благочестивые периоды года, например во время Великого или Рождественского поста. Некоторые утверждали, что ни о каком супружеском сексе нельзя помышлять по средам и пятницам, так как эти дни недели традиционно отводятся на покаяние.
Как будто всех этих ограничений было недостаточно, множество других правил ограничивали зрительные стимулы во время соития. Осуществлять соитие было желательно не снимая одежды. По той же причине происходить всё должно было ночью и в темноте. По большому счёту, супругам следовало делать всё возможное, чтобы как можно меньше видеть друг друга.
Большое любопытство возбуждал у средневековой публики тот факт, что женщина способна испытывать половое влечение даже во время менструации. Это было доказательством похотливости женской натуры, так как ни одно другое существо в животном мире не пытается заняться сексом, когда беременность невозможна. Причин тому могло быть несколько: от медицинской (считалось, что женщина получает от секса больше удовольствия, чем мужчина) до абсурдной (женщины недалеки умом и бездеятельны).
«Нет» моде и косметике
Считалось, что сексуальные хищницы где угодно отыщут себе любовников, только бы удовлетворить неуёмный жар своего любострастия. В средневековых умах это легко связывалось с вниманием женщин к своей наружности.
Интерес девушек к роскошным нарядам и украшениям объясняли их предполагаемой похотливостью. Стоило нарядиться или красиво причесать волосы, женщину тут же начинали подозревать в желании разжечь вожделение, притом не у супруга, а в посторонних мужчинах. Один отвергнутый муж в поэме «Роман о Розе» жалуется на неоспоримую истину, что «кто в жёны женщину возьмёт, тот глупость всю свою поймёт»:
Мне Ваши бусы не по нраву,
Вы носите их не по праву!
Наряд сей может быть надет,
Когда со мной Вы тет-а-тет.
Зачем на танцы в нём ходить —
Бесстыдников с ума сводить?
Встревоженные отцы старались позаботиться о том, чтобы дочери не следовали последней моде и не лелеяли связанные с ней сластолюбивые замыслы. Они без устали заклинали их не красить лица. И если отцы желали выставить свою дочь выгодной партией для брака, им надлежало в первую очередь показать чистоту её помыслов и отсутствие интереса к сексу за пределами супружеской опочивальни.
Если мужчин так сильно тревожило, что вверенные их попечениям женщины непростительно много заботятся о своей внешности и тем обнажают свой интерес к неприемлемым любовным похождениям, ничто не мешало им обратиться к испытанному средству: проповедники рекомендовали прихожанам держать своих жён, сестёр и дочерей в неприглядности, дабы они не решались покинуть дом и завести интрижку. Так, английский проповедник Одо Черитонский (ум. ок. 1247) давал следующую рекомендацию по содержанию привлекательных жён и дочерей: «Всем отцам семейств надлежит связывать их волоса в узел и подпаливать. А одевать их надлежит в рубища, нежели в драгоценные наряды. Ибо тогда они не осмелятся и носа из дому высунуть». Вдобавок иной раз обойдитесь с ними погрубее, и тогда отобьёте у ваших родственниц всякое желание искать секса, которого они так отчаянно хотят.
Дети как испытание
Средневековая эпоха отводила женщинам две роли — жены и, самое главное, матери. Всякая девушка, какое бы место в обществе она ни занимала, бóльшую часть времени только и делала, что готовилась к своей будущей роли в семье мужа. Родители делали всё возможное, чтобы достойно воспитать свою дочь и не позволить ей стать «горькой досадой для наречённого», как выразился один из Отцов Церкви богослов Иоанн Златоуст (347–407). Именно поэтому, если в родительском доме незамужняя девица, например, получала образование, это во многом считалось инвестицией в её ценность как предполагаемой невесты. Из хорошо образованных молодых женщин получались хорошие матери, поскольку в дальнейшем они могли сами обучать своих детей.
От них также ожидалось, что они будут вести собственное домохозяйство, и это предполагало, что среди их качеств необходима некоторая финансовая хватка, а если под их управлением будет крупное поместье, то им ещё предстояло распоряжаться многочисленным штатом прислуги и работников. Согласно Иерониму Стридонскому, «мужчины вступают в брак для того, чтобы кто-то вёл домашнее хозяйство, утешал в болезни и помогал избежать одиночества».
Для богатых сословий рождение законных наследников означало гарантию, что накопленное родовое богатство перейдёт следующему поколению и послужит защите его интересов. Бедные семьи заводили детей не обязательно ради сбережения семейной собственности, а больше чтобы вырастить помощников по хозяйству. В аграрном обществе лишний работник в поле или на ферме всегда был необходим, и особенно если ему не надо было платить за труд.
Впрочем, независимо от того, желали вы детей ради передачи наследства или ради помощи на ферме, вам предстояло преодолеть серьёзную преграду — детскую смертность. Уровень детской смертности был чрезвычайно высок, причём не только в глухом Средневековье, но и фактически до начала XX века. По самым скромным оценкам, в возрасте до семи лет умирали от 20% до 30% детей, хотя некоторые источники называют цифру в 50%. И следовательно, чтобы произвести жизнеспособных наследников, семьям приходилось рожать детей в куда больших количествах, чем мы привыкли сегодня.
Производя на свет наследников, сколько их ни требовал супруг для продолжения рода, женщины подвергали свою жизнь реальной опасности, которая, впрочем, составляла непременный атрибут их положения и звания замужних женщин. В так называемом «Письме о святой девственности» (Hali Meiðhad), написанном в одном из центральных графств Англии, признавались боль, опасности, тревоги и горести матерей: «вынашивание [ребёнка] сопряжено с отяжелением и постоянным неудобством; рождение ребёнка сопряжено с болью, самой жестокой из всех, а иногда и со смертью; воспитание его сопряжено со многими часами утомления».
Стирать и гладить ткать
Мир Средневековья, как и огромная часть современного мира, не располагал таким удобством, как водопровод. Так что воду нужно было с трудом натаскать не только для купания, но и для стирки, а потом ещё и нагреть. Делать эту тяжёлую физическую работу общество предоставляло женщинам. Стирка считалась занятием настолько сугубо женским, что в написанных мужчинами исторических трудах, где объясняется, как была поставлена стирка, авторы нередко осуждают женщин за сплетни, которым, что неудивительно, женщины вовсю предаются во время работы. Так, в Бретани места, куда женщины собирались для стирки, приобрели название «женских судов». И там-то, пока женщины стирали, полоскали, отжимали и выколачивали бельё, «языками работали не менее рьяно, чем своими колотушками; это здесь вершится женское правосудие, не знающее малейшей пощады к мужскому полу».
Стирка одежды занимала несколько дней. Сначала грязное бельё замачивали, чаще всего на ночь. Затем бельё слоями выкладывали в корыто, причём самые грязные вещи клали на дно, накрывали сверху куском ткани, а на нём размещали разные вещества для более эффективного замачивания — например слой древесной золы, иногда в смеси с крапивой, яичной скорлупой и мыльным корнем. Поверх всего этого наливали кипяток, а что переливалось за края, собирали, снова доводили до кипения и опять заливали в корыто — и так раз за разом на протяжении от десяти до двадцати часов. На следующий день замоченное бельё тащили к источнику проточной воды — в баню или на берег местной реки. Бельё взмыливали, отстирывали, отбивали колотушками, выполаскивали и как следует отжимали, прежде чем развесить для просушки на ветвях деревьев или на верёвках.
Таким же привычным и повсеместным для средневековых женщин занятием, как стирка, было и изготовление тканей, многие из них умели прясть и ткать.
При этом епископ-канонист Бурхард Вормсский рекомендовал священникам во время исповеди спрашивать у прихожанок, не занимались ли те случайно ворожбой, пока ткали. Он велел исповедникам допытываться у женщин, случалось ли, чтобы они сами или другая женщина в их присутствии за ткацким станком читали заклинания, запутывающие нити в столь замысловатые узлы, что дальше ткать невозможно, пока не прочтёшь «дьявольское заклинание». Если оставить в стороне эти попытки обвинить женщин в колдовстве, то терзания Бурхарда из-за проделок, на которые якобы пускаются ткачихи за работой, кое-что говорят нам о том, что ручное ткачество было очень мудрёным и трудоёмким делом. Настолько кропотливым, что мужчины легко верили, будто женщины не брезгуют даже ворожбой, лишь бы найти способ не выполнять эту трудную работу.
Ещё больше интересных фактов о любви, отношениях, браках — в книге «Как выжить женщине в Средневековье».

Книги из статьи